Анимус и Эрос: творческие вызовы современной женщины
Как только мне подтвердили участие с докладом (МААП в 2024 г.) на конференции, внутри поднялся шторм. До этого момента я четко чувствовала, о чём хочу говорить: я исследовала эту тему с 2015 года, сопровождала женщин-творцов в анализе, провела лабораторию, выступала, писала, — словом, жила в этом материале. Но стоило прикоснуться к ранее вытесненной, но давно желаемой потребности — выразиться в профессиональном кругу коллег-аналитиков, — как ураган разметал всю внутреннюю стройность.
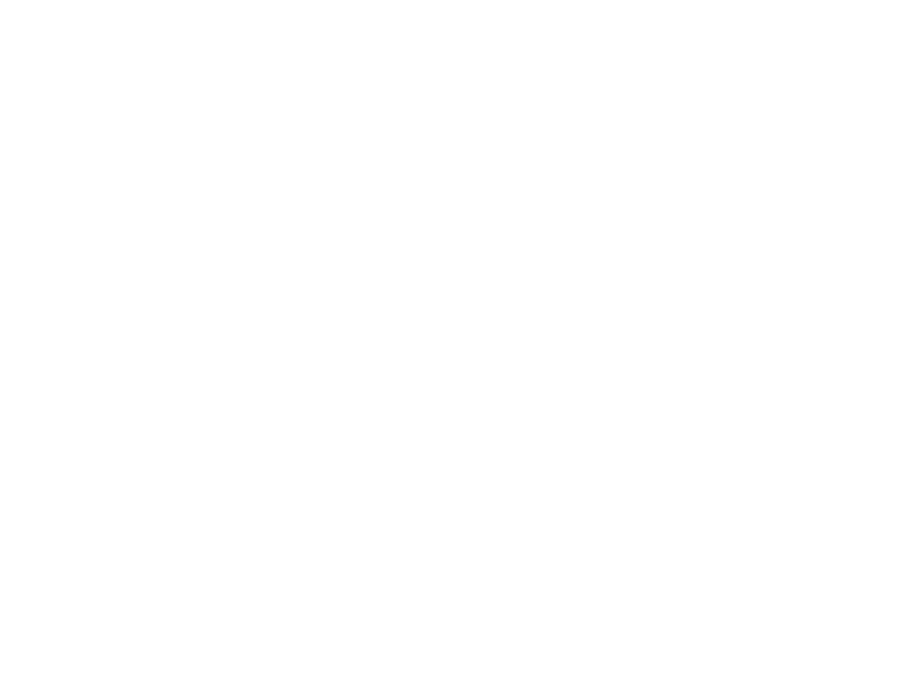
Фото автора с конференции МААП 2024
Шторм, как известно, поднимается при резком перепаде давления — между зонами с высоким и низким атмосферным давлением. В символическом языке души это — столкновение между полюсами, между силами, разорванными в напряжении. В центре — вакуум, воронка, в которой вдруг исчез фокус внимания, сам объект исследования уходит из поля зрения. Иссякает источник, из которого рождается творчество. А по краям — тревожное движение воздуха: рассыпанные фрагменты мыслей, мнений, оценок, — как будто всё, что прежде было целостным, становится разрозненным.
В этом образе урагана я ощутила проявление захваченности Анимусом: воздух — элемент мнений, идей, абстрактных суждений — теряет связь с землёй, с материей живого человеческого опыта. Он кружит, отрываясь от тела, от чувств, от конкретности. А что послужило спусковым механизмом? «Понижение давления» — ослабление связи с Эросом, притягательной силой, которая удерживает женское сознание в контакте с телом, чувствами, жизнью. Там, где Эрос ослабевает, энергия напряжения между разнонаправленными элементами психики погружается в бессознательное и активизирует архетип Анимуса.
В этом образе урагана я ощутила проявление захваченности Анимусом: воздух — элемент мнений, идей, абстрактных суждений — теряет связь с землёй, с материей живого человеческого опыта. Он кружит, отрываясь от тела, от чувств, от конкретности. А что послужило спусковым механизмом? «Понижение давления» — ослабление связи с Эросом, притягательной силой, которая удерживает женское сознание в контакте с телом, чувствами, жизнью. Там, где Эрос ослабевает, энергия напряжения между разнонаправленными элементами психики погружается в бессознательное и активизирует архетип Анимуса.
В чём особенность и вызов женщины-творца? Как она теряет и восстанавливает связь с творческим импульсом?
Юнг определяет творческий акт, как напряжение между противоположностями (1). Так в символе бури противоположностями становится внешнее и внутреннее давления, что подразумевает под собой наличие внешнего мотива – в моём случае, это ожидание проявления в профессиональном сообществе, и внутреннего мотива – силы, которая заставляет меня формулировать опыт. Оба источника находятся в непрерывном движении, изменяя отношение и, таким образом, разворачивая текст моего выступления под разными углами. Эго-сознание в этом процессе переживает болезненное расширение. Оно подвергается риску не выдержать напряжения и перенести акцент внимания на одну из противоположностей, это приведёт к тому, что женщина-творец либо потеряет из виду внешние отношения, тогда результат творчества останется непонятым другими; либо отвернется от внутренней потребности выразить свой чувственный опыт, в таком случае процесс окажется обесточенным, и его конечная форма не принесет ей удовлетворения.
Чтобы глубже понять, как именно творческая энергия женщины вовлекается и рассеивается между этими двумя полюсами, обратимся к представлениям аналитической психологии об Анимусе и Эросе. Прежде всего, важно отметить, что образ Анимуса в литературе часто окрашен в негативный тон, что, с одной стороны, является обоснованным, так как его присутствие должно вызывать чувство опасности; с другой стороны, это приводит к отторжению сознания женщины от прямого взгляда на своего неотъемлемого спутника в творческом акте.
Доктор Иоланда Якоби в своей классической работе «Психология К.Г.Юнга» даёт нам такое представление о мужском и женском: «как мужчина по своей глубинной природе не уверен в сфере Эроса, так и женщина всегда нерешительна в сфере Логоса» (2 С.502). Эта фраза отражает культурное ограничение женского мышления, характерное для своего времени. Современные женщины, однако, во многом преодолели эту историческую нерешительность, активно осваивая пространства логического и концептуального мышления, включая сферы академии, науки и философии.
Сам же Юнг пишет следующее («Эон. Исследования о символике самости»):
Чтобы глубже понять, как именно творческая энергия женщины вовлекается и рассеивается между этими двумя полюсами, обратимся к представлениям аналитической психологии об Анимусе и Эросе. Прежде всего, важно отметить, что образ Анимуса в литературе часто окрашен в негативный тон, что, с одной стороны, является обоснованным, так как его присутствие должно вызывать чувство опасности; с другой стороны, это приводит к отторжению сознания женщины от прямого взгляда на своего неотъемлемого спутника в творческом акте.
Доктор Иоланда Якоби в своей классической работе «Психология К.Г.Юнга» даёт нам такое представление о мужском и женском: «как мужчина по своей глубинной природе не уверен в сфере Эроса, так и женщина всегда нерешительна в сфере Логоса» (2 С.502). Эта фраза отражает культурное ограничение женского мышления, характерное для своего времени. Современные женщины, однако, во многом преодолели эту историческую нерешительность, активно осваивая пространства логического и концептуального мышления, включая сферы академии, науки и философии.
Сам же Юнг пишет следующее («Эон. Исследования о символике самости»):
«Компенсацией женщине служит мужской элемент; как следствие, ее бессознательное несет на себе, так сказать, маскулинный отпечаток. В результате возникает существенное психологическое различие между мужчинами и женщинами, и я соответствующим образом назвал фактор, отвечающий за создание проекций у женщин, словом «анимус», что означает «разум» или «дух». Анимус соотносится с отцовским Логосом, так же как анима – с материнским Эросом. Я, однако, не намерен давать этим двум интуитивным понятиям слишком уж специфические определения. Эрос и Логос я использую просто как вспомогательные понятия, позволяющие описать тот факт, что сознание женщины в большей мере характеризуется связующими свойствами Эроса, а не различением и познанием, ассоциирующимися с Логосом». (3 С.30)
С чем ассоциируется у вас «отцовский логос»? Я спросила об этом у женщин. И получила следующие ответы: «с отцом небесным», «с миром идей», «с далекими облаками», «с великими горами», «с непостижимым», «с духовными учителями». Эти образы указывают на отстранённость, трансцендентность, труднодостижимость — возможно, именно это делает женский путь к Логосу особенно уязвимым и одновременно необходимым. Они отражают привычную сторону архетипа, которая оставляет творческое развитие женщины, захороненным в подземном мире, где, в таком случае, пребывает «материнский Эрос».
Существует и другая работа Юнга, в которой мы обнаруживаем совсем иной взгляд на то, откуда происходит Логос и Эрос, и как они распределены в женщине и в мужчине.
Существует и другая работа Юнга, в которой мы обнаруживаем совсем иной взгляд на то, откуда происходит Логос и Эрос, и как они распределены в женщине и в мужчине.
«Семь наставлений мёртвым» — трактат Юнга, который знакомит нас с гностическим слоем его души. До конца остаётся неясным, кто именно говорит с нами: швейцарский доктор или раннехристианский гностик Василид, обращающийся к мёртвым, покинувшим Иерусалим в поисках наставлений. Вот, как в Пятом Наставлении описано взаимодействие между мужским и женским:
«Мир богов проявляется в духовности и сексуальности. Небесные являются в духе, земные — в поле. Духовность принимает и охватывает. Она женственна и поэтому мы называем ее: MATER COELESTIS, небесная мать. Пол рождает и созидает. Он мужествен, и поэтому мы называем его: PHALLOS, земной отец. Пол мужчины преимущественно от земли, пол женщины преимущественно от неба. Духовность мужчины преимущественно от неба, она идет к большему. Духовность женщины преимущественно от земли, она идет к меньшему. Обманчива и дьяволоподобна духовность мужчины, идущая к меньшему. Обманчива и дьяволоподобна духовность женщины, идущая к большему». (2. С.378)
«Мир богов проявляется в духовности и сексуальности. Небесные являются в духе, земные — в поле. Духовность принимает и охватывает. Она женственна и поэтому мы называем ее: MATER COELESTIS, небесная мать. Пол рождает и созидает. Он мужествен, и поэтому мы называем его: PHALLOS, земной отец. Пол мужчины преимущественно от земли, пол женщины преимущественно от неба. Духовность мужчины преимущественно от неба, она идет к большему. Духовность женщины преимущественно от земли, она идет к меньшему. Обманчива и дьяволоподобна духовность мужчины, идущая к меньшему. Обманчива и дьяволоподобна духовность женщины, идущая к большему». (2. С.378)
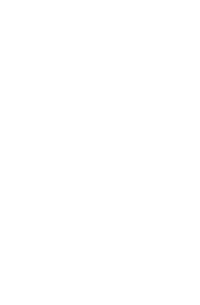
VII Наставлений Мёртвым
сборник из семи мистических текстов, частно опубликованных К. Г. Юнгом в 1916 году.
В этом отрывке всё предстаёт в новой форме: духовное и небесное связано с материнским, в то время, как земное и плотское – с отцовским. Эта парадоксальная инверсия привычного архетипического распределения открывает важную перспективу: женское тело может быть вместилищем духа, а мужская телесность — выражением природного естества. И наоборот, духовный, внутренний аспект женщины подчиняется природным принципам, в то время, как мужской дух направлен к высшему. Для того, чтобы понять этот гностический образ, представленный в “Наставлениях”, я предлагаю познакомиться с Пеласгическим мифом творения из книги Роберта Грейвса «мифы древней Греции»:
Миф об Эвриноме и Офионе
“Эвринома, богиня всего сущего, восстала обнаженной из Хаоса и обнаружила, что ей не на что опереться. Поэтому она отделила небо от моря и начала свой одинокий танец над его волнами. В своем танце она продвигалась к югу, и за ее спиной возникал ветер, который ей показался вполне пригодным, чтобы начать творение. Обернувшись, она поймала этот северный ветер, сжала его в своих ладонях — и перед ее глазами предстал великий змей Офион. Чтобы согреться, Эвринома плясала все неистовей, пока не пробудилось в Офионе желание, и он обвил ее божественные чресла, чтобы обладать ею. Таким же способом и Эвринома зачала дитя.
Затем превратилась она в голубку, села, подобно наседке, на волны и по прошествии положенного времени снесла Мировое яйцо. По ее просьбе Офион обернулся семь раз вокруг этого яйца и высиживал его до тех пор, пока оно не раскололось надвое. И появилось из него все то, что только существует на свете: солнце, луна, планеты, звезды, земля и ее горы, реки, деревья, травы и живые существа. Эвринома и Офион обосновались на Олимпе, но он обидел ее, объявив себя творцом Вселенной. За это ударила она его пяткой по голове, выбила ему все зубы и изгнала в мрачные подземные пещеры2. После этого богиня создала семь планетных сил, поставив во главе каждой титаниду и титана. Тейя и Гиперион владели Солнцем; Феба и Атлант — Луной; Диона и Крий — планетой Марс; Метида и Кой — планетой Меркурий; Фемида и Эвримедонт — планетой Юпитер; Тефия и Океан — планетой Венера; Рея и Крон — планетой Сатурн3. с.16 Но первым человеком стал Пеласг, предок всех пеласгов; он вышел из земли Аркадии, а за ним пришли другие, которых он научил делать хижины и питаться желудями, а также делать одежды из свиных шкур, в которых до сих пор еще ходят бедняки Эвбеи и Фокиды”. (5 С.23)
Затем превратилась она в голубку, села, подобно наседке, на волны и по прошествии положенного времени снесла Мировое яйцо. По ее просьбе Офион обернулся семь раз вокруг этого яйца и высиживал его до тех пор, пока оно не раскололось надвое. И появилось из него все то, что только существует на свете: солнце, луна, планеты, звезды, земля и ее горы, реки, деревья, травы и живые существа. Эвринома и Офион обосновались на Олимпе, но он обидел ее, объявив себя творцом Вселенной. За это ударила она его пяткой по голове, выбила ему все зубы и изгнала в мрачные подземные пещеры2. После этого богиня создала семь планетных сил, поставив во главе каждой титаниду и титана. Тейя и Гиперион владели Солнцем; Феба и Атлант — Луной; Диона и Крий — планетой Марс; Метида и Кой — планетой Меркурий; Фемида и Эвримедонт — планетой Юпитер; Тефия и Океан — планетой Венера; Рея и Крон — планетой Сатурн3. с.16 Но первым человеком стал Пеласг, предок всех пеласгов; он вышел из земли Аркадии, а за ним пришли другие, которых он научил делать хижины и питаться желудями, а также делать одежды из свиных шкур, в которых до сих пор еще ходят бедняки Эвбеи и Фокиды”. (5 С.23)
В этой космогонии две противоположные силы, которые порождают акт творения, можно определить, как желание, порожденное духовным движением, выраженном в танце Эвриномы, и желание, произрастающее из земли в образе змея Офиона. Эвринома выражает образ mater coelestis, небесной матери, и, соответственно, воплощается в духовной сфере мужчины и в плотской сфере женщины. Это танец анимы или реальной женщины, в той мере, в которой они достигли воплощения образа небесной матери. Их явление привносит разделение в первозданный Хаос: это и разделение в первоначальном слиянии ребенка и матери, личности и сообщества, личного и коллективного бессознательного. Для мужчины этот акт ознаменуется явлением анимы – отличной от матери женщины. Для женщины – это встреча с духовной силой собственной телесной воплощенности. На мой взгляд, именно эту встречу описывает Анна Андреевна Ахматова:
Муза
Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.
И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данте диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я!».
(6 С.193)
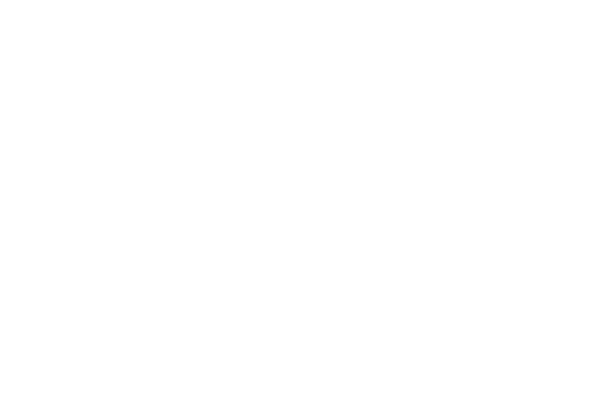
В этих строфах мы вместе с поэтессой прикасаемся к особенному ожиданию того, что ставит всю жизнь под угрозу небытия. Встреча с музой заставляет пересмотреть всё, что является ценным. Мы можем почувствовать присутствие Эроса, направленного не к другому человеку, а к явлению внутри психики. Лирическая героиня при этом уже не стремится оставаться в неведении относительно его природы, она прозревает — и прозрение это одновременно ужасает и вдохновляет её.
«Ты ль Данте диктовала страницы Ада?» Она обнаруживает в своей музе связь, надличностный аспект, существовавший задолго до её жизни: ту, что “диктовала” Данте его бессмертное произведение.
Ахматова встречает «милую гостью» одновременно с трепетом и нежностью, но и с ужасом от предчувствия тех глубин, в которые она может увести её. Прикасаясь к подобной амбивалентности собственной телесной воплощенности, не удивительно, что женщины призывают на помощь своих рыцарей-анимусов.
«Ты ль Данте диктовала страницы Ада?» Она обнаруживает в своей музе связь, надличностный аспект, существовавший задолго до её жизни: ту, что “диктовала” Данте его бессмертное произведение.
Ахматова встречает «милую гостью» одновременно с трепетом и нежностью, но и с ужасом от предчувствия тех глубин, в которые она может увести её. Прикасаясь к подобной амбивалентности собственной телесной воплощенности, не удивительно, что женщины призывают на помощь своих рыцарей-анимусов.
Змей Офион становится в мифе прародителем “плотского” мужчины и “духовного” женщины. В мужском духовном опыте, который выражен во многих практиках и учениях, требуется преодолеть телесный соблазн, подчинить природный инстинкт и направить своё сознание в духовную сферы. И этот путь описывает Юнг-Василид в “Наставлениях”: “Духовное мужа от небес, оно направлено к высшему”. Однако, для женщины он указывает иное направление, там, где мужчина отрекается, она – соединяется, когда он стремится присоединиться к небесной матери в её соблазнительном танце, она узнаёт себя танцующей и принимает в себя восходящую природную суть бессознательного.
Стефан Хёллер в своей работе «Юнг и гностицизм» говорит о том, что женское бессознательное больше связано с задачами формирования сообщества и отношений между людьми, что Логос женщины ориентирован на укрепление связей, а потому несёт ей тайные знания, которые она, при должном осознании, может использовать, как семя для новой жизни. Он пишет: «Наставления», в действительности, гораздо более явно отдают дань женской Психе, чем поздняя литература юнгианской психологии. Они не утверждают, что женщина является тотально одержимой Логосом, но скорее то, что принцип Логоса наиболее могущественен в ней на бессознательном уровне, и эта ситуация дает ей некоторые психологические преимущества, делающие ее более проницательной, интуитивной и духовно осведомленной о двух полах». (8 С.121)
Стефан Хёллер в своей работе «Юнг и гностицизм» говорит о том, что женское бессознательное больше связано с задачами формирования сообщества и отношений между людьми, что Логос женщины ориентирован на укрепление связей, а потому несёт ей тайные знания, которые она, при должном осознании, может использовать, как семя для новой жизни. Он пишет: «Наставления», в действительности, гораздо более явно отдают дань женской Психе, чем поздняя литература юнгианской психологии. Они не утверждают, что женщина является тотально одержимой Логосом, но скорее то, что принцип Логоса наиболее могущественен в ней на бессознательном уровне, и эта ситуация дает ей некоторые психологические преимущества, делающие ее более проницательной, интуитивной и духовно осведомленной о двух полах». (8 С.121)
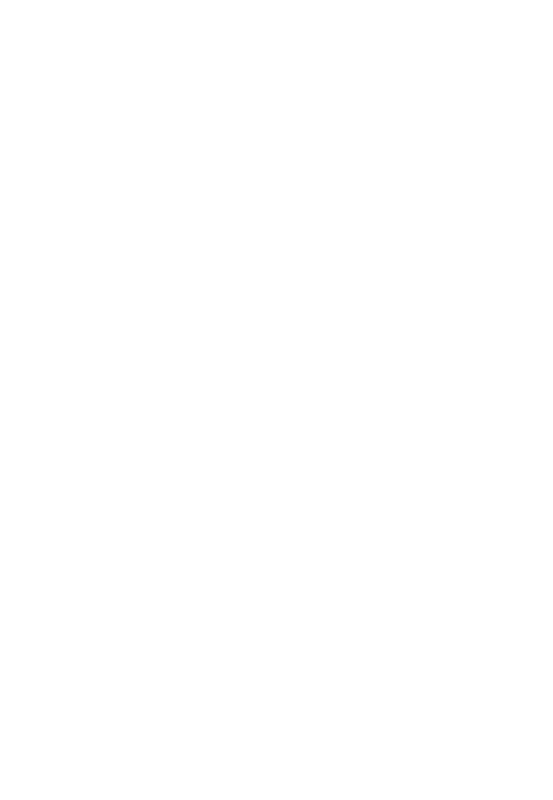
Юнг и гностицизм:
Стефан Хёллер, юнгианский аналитик и епископ Гностической церкви, исследовал связь между психологией Карла Юнга и гностицизмом.
Вере 45 лет, она уже больше двадцати лет живёт в Америке. Вышла замуж, родила ребенка, сделала успешную карьеру, развелась. Интеллектуально развитая эта женщина производит впечатление человека, который точно знает, что ему надо и куда он хочет прийти. Однако в терапию её привело бессилие и невозможность справиться с обуревающей её тревогой относительно телесных симптомов, которые мучили её уже не первый год. Она постоянно проходила обследования, чему-то находили объяснения, но другие симптомы оставались не ясными. Она страдала неврологическим зажимом в руке, который ослаблял её и делал менее функциональной. В итоге она решилась на диагностическую операцию, которая выявила диагноз столь редкий, что никакого лечения ей предложить не смогли. Операция значительно ухудшила её до этого стабилизировавшееся состояние. Она с горечью осознала, что её погоня за диагнозом стала навязчивой и разрушительной.
В терапии Вера продолжала погружать нас обеих в бессилие и ужас грядущей инвалидности и одиночества. Я проживала вместе с ней невозможность что-либо изменить и интеллектуальный тупик. Любые мои попытки взглянуть на симптом, как на проявление скрытого в бессознательном процесса индивидуации, проваливались, и мы возвращались к исходной точке. Всё казалось безнадежным. Все достижения аннулировались. Возможность взглянуть на симптом, как на послание, пробуждала вину и страх перед наказанием. Воображение Веры рисовало кого-то, склонного к садизму, сама она при этом возвращалась в возраст трёх лет. Боль воспоминаний пробуждала анимус, и он проявлялся в обобщенных и отстраненных суждениях о том, как правильно и как должно было быть, что в ответ активизировало мой собственный анимус.
В очередной подобный виток после нашей встречи я проснулась ночью с ноющей болью в плече. Я не понимала, что происходит и подумала, что возможно застудила её на прогулке. Но боль усиливалась и неожиданно я начала чувствовать панику, хотя обычно спокойно переношу недомогания. Я искала способ помочь себе, как вдруг поняла, что у меня болит то самое место, о котором мне говорила Вера. Благодаря этой соматической синхронии мы оказались с ней в одном пространстве и у меня появился шанс понять, что именно происходит.
Осознание подобного рода синхроничности может пробудить ужас и переживания «зараженности», а может открыть путь эросу, как явлению чуда, способного задействовать недоступные для эго ресурсы. Мы можем посмотреть на это, как на танец Эвриномы, небесной силы, преобразующей пространство между терапевтом и пациентом.
Я погрузилась в активное воображение и увидела, как плечо и рука превратились в змею. Эта змея была частью тела, но при этом была полностью автономна. И чем больше я сопротивлялась её присутствию, тем сильнее становилась боль. Когда я допустила её автономность, то увидела, что она здесь не для того, чтобы мучать меня. Боль причинял мой ужас и попытка подавить происходящее, но чем больше я расслаблялась, тем больше тепла вливалось в моё плечо.
В следующую нашу встречу Вера рассказала, что у неё было прекрасное время: она была на вечере музыки, где наслаждалась игрой на пианино. Я впервые узнала о её музыкальном таланте, открывавшем ей путь в консерваторию, но от которого она отказалась ради науки.
Я не говорила ей о встрече со змеёй, но направила всё своё внимание на сокрытый и отвергаемый талант, который интеллектуально развитому рациональному сознанию трудно признать автономным.
Древние римляне придавали большое значение одарённым людям и их роли в обществе. Они верили, что талант не только является личным качеством, но и может быть связан с божественным влиянием. Одарённые люди являются частью общества и призваны реализовывать свои способности на его благо.
В терапии Вера продолжала погружать нас обеих в бессилие и ужас грядущей инвалидности и одиночества. Я проживала вместе с ней невозможность что-либо изменить и интеллектуальный тупик. Любые мои попытки взглянуть на симптом, как на проявление скрытого в бессознательном процесса индивидуации, проваливались, и мы возвращались к исходной точке. Всё казалось безнадежным. Все достижения аннулировались. Возможность взглянуть на симптом, как на послание, пробуждала вину и страх перед наказанием. Воображение Веры рисовало кого-то, склонного к садизму, сама она при этом возвращалась в возраст трёх лет. Боль воспоминаний пробуждала анимус, и он проявлялся в обобщенных и отстраненных суждениях о том, как правильно и как должно было быть, что в ответ активизировало мой собственный анимус.
В очередной подобный виток после нашей встречи я проснулась ночью с ноющей болью в плече. Я не понимала, что происходит и подумала, что возможно застудила её на прогулке. Но боль усиливалась и неожиданно я начала чувствовать панику, хотя обычно спокойно переношу недомогания. Я искала способ помочь себе, как вдруг поняла, что у меня болит то самое место, о котором мне говорила Вера. Благодаря этой соматической синхронии мы оказались с ней в одном пространстве и у меня появился шанс понять, что именно происходит.
Осознание подобного рода синхроничности может пробудить ужас и переживания «зараженности», а может открыть путь эросу, как явлению чуда, способного задействовать недоступные для эго ресурсы. Мы можем посмотреть на это, как на танец Эвриномы, небесной силы, преобразующей пространство между терапевтом и пациентом.
Я погрузилась в активное воображение и увидела, как плечо и рука превратились в змею. Эта змея была частью тела, но при этом была полностью автономна. И чем больше я сопротивлялась её присутствию, тем сильнее становилась боль. Когда я допустила её автономность, то увидела, что она здесь не для того, чтобы мучать меня. Боль причинял мой ужас и попытка подавить происходящее, но чем больше я расслаблялась, тем больше тепла вливалось в моё плечо.
В следующую нашу встречу Вера рассказала, что у неё было прекрасное время: она была на вечере музыки, где наслаждалась игрой на пианино. Я впервые узнала о её музыкальном таланте, открывавшем ей путь в консерваторию, но от которого она отказалась ради науки.
Я не говорила ей о встрече со змеёй, но направила всё своё внимание на сокрытый и отвергаемый талант, который интеллектуально развитому рациональному сознанию трудно признать автономным.
Древние римляне придавали большое значение одарённым людям и их роли в обществе. Они верили, что талант не только является личным качеством, но и может быть связан с божественным влиянием. Одарённые люди являются частью общества и призваны реализовывать свои способности на его благо.
Лярва и Лар
Если человек развивал свой талант, реализовывал его, то после смерти его дух высвобождался и мог распространять положительное влияние одаривая поддержкой род, римляне называли его “лар”, то есть хранитель или покровитель. Однако если человек пренебрегал своим талантом или использовал его в корыстных целях, то его дух после смерти тела становился “лярвой”, то есть злой и преследующей людей демонической силой.
Мы могли бы сказать, что “лярвой” становился негативный анимус или анима, усиленные не развитым потенциалом талантливой личности. Если же человек прикладывал усилие и усердие в том, чтобы проводить через себя свой гений, то бессознательная часть личности воплощалась в творческом разуме, способном творить чудеса и продолжать это делать и после ухода человека из жизни.
Одна и та же творческая сила могла привести к разным результатам. В случае Веры энергия её дарования утекала в бессознательное и активизировала архетип анимуса, который способствовал потребности эго в подавлении и контроле. После синхроничного опыта разговоров о музыке, творчестве и отношениях стало больше, чем разговоров о телесных симптомах. Энергия начала течь иначе, создавая новые островки внимания.
Эрос высвободился из под ослабшего гнёта потребности достичь выдающихся результатов.
Чем отличается творческий человек от одержимого? Нойманн в своей работе “Творческий человек и трансформация” описывает это различие через явление разделенности психики, которое в своих крайних полюсах выражается в “застывании”, в то время как творческая сила приводит в движение и сознание и бессознательное, запускает поток преобразований, направленных на новые формы целостности.
«Жесткая, недвусмысленная самоуверенность — в данном контексте можно сказать «эго-уверенность» — которая исключает трансформацию и любое творчество, в том числе и откровение, есть порождение дьявола». (1 С.216)
Или же в случае женской души этот демон — негативный анимус, удерживающий эго-сознание от изменений. Нойманн говорит, что «в то же самое время, он проявляется, как ее противоположность, как хаос». Или как буря, которая поднимает в воздух всё и смешивает всё воедино. «Застывшая форма и хаос, эти две формы отрицательного принципа, непосредственно противостоят принципу творческому, включающему в себя трансформацию, то есть противостоят не только жизни, но и смерти»(1 С.217).
Или же в случае женской души этот демон — негативный анимус, удерживающий эго-сознание от изменений. Нойманн говорит, что «в то же самое время, он проявляется, как ее противоположность, как хаос». Или как буря, которая поднимает в воздух всё и смешивает всё воедино. «Застывшая форма и хаос, эти две формы отрицательного принципа, непосредственно противостоят принципу творческому, включающему в себя трансформацию, то есть противостоят не только жизни, но и смерти»(1 С.217).
Одержимость одаренных пациентов своим физическим недомоганием может быть антитезой к их не пройденному творческому пути, характерным отказом эго от признания отвергнутых качеств частью целого, и в каком-то смысле творческим преобразованием их в симптом.
Испытания творческого пути возвращают эго-комплекс из “мира звёзд” в “недра земли”, лишая его избытка инфляции и преобразуя в связующий элемент, устремленный за путеводной нитью своего эроса к неизбежному полному боли перерождению. Об исцеляющем образе “подземного мира” я писала в своей книге, проживая вместе с шумерской богиней Инанной спуск в “страну, из которой нет возврата”. Урок, который она щедро разделяет с каждой, состоит в том, что кольцеобразное движение жизненных кризисов срывает маски, и через это знакомит с сердцевиной души. (10)
История Психеи повествует именно о таком переходе: из дочери царя в жену бога, из райского слияния и сладкого неведения в служение полное боли и отчаяния, из небытия в бытие, обреченное на вечный сон. Её отношения с Логосом развиваются особым феминным способом, проявляются они, как внеличностная сила. Тихий голос тростинки учит быть последовательной и терпеливой, работа муравьёв – обнаруживает навык различения и структурирования, быстрокрылый орёл – одаривает божественным вдохновением, удержать которое может лишь сознание, лишенное тщеславия. В течение всей истории испытаний Психея продолжает хранить свой эрос сокрытым во тьме и, движимая им, сталкивается с отчаянием. Она совершает подвиги и проходит творческий путь феминного развития, находя скрытые способы делать невозможное возможным.
Современные Психеи обнаруживают себя перед теми же вызовами, когда им приходится проращивать одновременно множество зёрен работы, семьи, отношений, духовных поисков. Или же использовать маскулинную энергию силы и агрессии, чтобы проявить себя в небезопасной среде — то есть собрать «золотое руно». Они стоят у берегов буйной реки Стикс, но орёл не прилетает. Не говоря уже о том, что спуск в Подземный мир редко сопровождается напутствием мудрой башни коллективного знания. Все эти испытания мы можем услышать в современных запросах: от горечи потери до водоворота отчаяния, который отражён в мифе и присутствует, похоже, в самой сути феминной души, как составляющий её основу элемент. И в том случае, если аналитик берёт на себя роль тростинки или муравьёв, он лишает возможности пациента реализовать свой собственный миф творения и установить внутренние отношения с бессознательным. Но если мы всматриваемся в сокрытый эрос, веря или даже зная, что он существует в самых тёмных уголках души, то mater coelestis будет к нам благосклонна – она одарит снами и синхронией, указывающими путь.
Первая часть названия моего доклада повторяет одноименный сборник лекций , прочитанных БХ. О «религиозной функции анимуса в Книге Товита» над которыми она работала в период с 51-74 гг, где БХ определяет установление взаимосвязи Анимуса с Эросом, как единственно возможное исцеление от одержимости:
Испытания творческого пути возвращают эго-комплекс из “мира звёзд” в “недра земли”, лишая его избытка инфляции и преобразуя в связующий элемент, устремленный за путеводной нитью своего эроса к неизбежному полному боли перерождению. Об исцеляющем образе “подземного мира” я писала в своей книге, проживая вместе с шумерской богиней Инанной спуск в “страну, из которой нет возврата”. Урок, который она щедро разделяет с каждой, состоит в том, что кольцеобразное движение жизненных кризисов срывает маски, и через это знакомит с сердцевиной души. (10)
История Психеи повествует именно о таком переходе: из дочери царя в жену бога, из райского слияния и сладкого неведения в служение полное боли и отчаяния, из небытия в бытие, обреченное на вечный сон. Её отношения с Логосом развиваются особым феминным способом, проявляются они, как внеличностная сила. Тихий голос тростинки учит быть последовательной и терпеливой, работа муравьёв – обнаруживает навык различения и структурирования, быстрокрылый орёл – одаривает божественным вдохновением, удержать которое может лишь сознание, лишенное тщеславия. В течение всей истории испытаний Психея продолжает хранить свой эрос сокрытым во тьме и, движимая им, сталкивается с отчаянием. Она совершает подвиги и проходит творческий путь феминного развития, находя скрытые способы делать невозможное возможным.
Современные Психеи обнаруживают себя перед теми же вызовами, когда им приходится проращивать одновременно множество зёрен работы, семьи, отношений, духовных поисков. Или же использовать маскулинную энергию силы и агрессии, чтобы проявить себя в небезопасной среде — то есть собрать «золотое руно». Они стоят у берегов буйной реки Стикс, но орёл не прилетает. Не говоря уже о том, что спуск в Подземный мир редко сопровождается напутствием мудрой башни коллективного знания. Все эти испытания мы можем услышать в современных запросах: от горечи потери до водоворота отчаяния, который отражён в мифе и присутствует, похоже, в самой сути феминной души, как составляющий её основу элемент. И в том случае, если аналитик берёт на себя роль тростинки или муравьёв, он лишает возможности пациента реализовать свой собственный миф творения и установить внутренние отношения с бессознательным. Но если мы всматриваемся в сокрытый эрос, веря или даже зная, что он существует в самых тёмных уголках души, то mater coelestis будет к нам благосклонна – она одарит снами и синхронией, указывающими путь.
Первая часть названия моего доклада повторяет одноименный сборник лекций , прочитанных БХ. О «религиозной функции анимуса в Книге Товита» над которыми она работала в период с 51-74 гг, где БХ определяет установление взаимосвязи Анимуса с Эросом, как единственно возможное исцеление от одержимости:
«Приверженность жизни, полное принятие происходящего, принесение в жертву иллюзий — вот что может превратить анимуса из демона, досаждающего вам своими предубеждениями в творческий разум. И на этом пути сердце, олицетворяющее чувство и принцип Эроса, станет самым надежным помощником; ведь только когда человек другого пола становится для нас жизненно важным, к нам приходит желание и сила противостоять анимусу, который запутал нас в своих прописных истинах» (4 С.196).
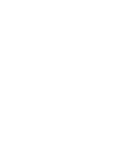
Барбара Ханна
Барбара Ханна (Barbara Hannah, 2 августа 1891, Англия — сентябрь 1986) — юнгианский аналитик шотландского происхождения и близкий партнер швейцарского психиатра Карла Густава Юнга.
Белая птица, сокрытая в женском бессознательном, несёт целый мир, но выразить его можно лишь в союзе со слепой змеёй желаний расположенной в духовной, то есть в сознательной сфере. Женское сокрытое «распахивает глаза в поисках смысла» (8 С.120). Но при этом сознание может оставаться слепо относительно собственных мотивов. И эта слепота тем пагубнее влияет на женщину, чем менее она осознаёт свою крылатую природу. Вера была абсолютно уверена в том, что именно ей надо – она выстраивала свою жизнь исходя из этой уверенности, с презрением относилась к слабости или нерешительности других женщин. Её уверенность наделяла сокрытые и отринутые желания демонической силой, а сокрытый в них талант — разрушающим импульсом.
До тех пор пока женщина не вступает в череду встреч со своими теневыми сёстрами, (а начинает она её всегда с признания собственной слепоты) до этого момента бессознательный логос связан потаенными желаниями тени, их ригидностью и эгоизмом.
Спустя полгода после инцидента с соматической синхронией, Вере приснился сон, в нём пластиковая змея проползла через неё, по тому самому плечу, в котором был симптом. Она проснулась с ужасом. Сновидение выводит символ змеи, она одновременно жива и автономна, но при этом искусственная, что пугает еще больше, потому что вносит неопределенность. Признание змеи частью себя, возможно, открыло бы путь сквозь симптом к тому, что на самом деле руководило выборами в жизни. Но Вера была к этому не готова.
Две силы Логос и Эрос сталкиваются и порождают творческий акт, внутри которого находится душа. И когда эта душа женская, то мы говорим об Анимусе, который может проявляться не только, как мужской образ, но и как животное, птица или “ветер”. Его появление знаменует собой движение между сознанием и бессознательным. Творческий рост и развитие — это не роскошь и не выбор, это необходимость, естественное расширение психических чертогов. Как дерево не способно остановиться и замереть, так и психика не способна долго удерживать калейдоскоп преобразований.
До тех пор пока женщина не вступает в череду встреч со своими теневыми сёстрами, (а начинает она её всегда с признания собственной слепоты) до этого момента бессознательный логос связан потаенными желаниями тени, их ригидностью и эгоизмом.
Спустя полгода после инцидента с соматической синхронией, Вере приснился сон, в нём пластиковая змея проползла через неё, по тому самому плечу, в котором был симптом. Она проснулась с ужасом. Сновидение выводит символ змеи, она одновременно жива и автономна, но при этом искусственная, что пугает еще больше, потому что вносит неопределенность. Признание змеи частью себя, возможно, открыло бы путь сквозь симптом к тому, что на самом деле руководило выборами в жизни. Но Вера была к этому не готова.
Две силы Логос и Эрос сталкиваются и порождают творческий акт, внутри которого находится душа. И когда эта душа женская, то мы говорим об Анимусе, который может проявляться не только, как мужской образ, но и как животное, птица или “ветер”. Его появление знаменует собой движение между сознанием и бессознательным. Творческий рост и развитие — это не роскошь и не выбор, это необходимость, естественное расширение психических чертогов. Как дерево не способно остановиться и замереть, так и психика не способна долго удерживать калейдоскоп преобразований.
«Если ты родишь то, что внутри тебя, то, что ты родишь, спасёт тебя. Если ты не родишь того, что внутри тебя, то, что ты не родишь, уничтожит тебя»
(Евангелие от Фомы)
(Евангелие от Фомы)
Для иллюстрации того, как может разворачиваться процесс перехода из небытия в бытие, преобразуя Анимус и Эрос, я хочу привести случай другой пациентки, назовём её Арина.
Женщина 35 лет пришла ко мне с жалобой на раздражение и агрессию в сторону старшего сына, которому на тот момент было 5 лет. К тому моменту она уже 6 лет была в декретном отпуске, заботясь о двух детях. Охваченная жёсткими идеями «правильного» материнства она выбирала для них всё, что ей казалось самым лучшим. Её анимус был очень строг и суров относительно «правильной еды, досуга, сна». Сын, обладающий живым нравом, не поддавался материнским установкам и становился нарушителем «идеальной картинки» или проявителем истинного «положения дел», что вызывало сильнейшее раздражение. Она жаловалась на то, что не может следить за собственным телом, что пытается реализовать личные проекты, но впадает в апатию и бездействие. Весь её эрос был помещён в детей, анимус не давал ей поддержки, а вместо этого постоянно создавал всё более жёсткие критерии оценки себя, как матери. В первом её сне в терапии меня поразил образ ледяного океана и парящей над ним вдали птицы. Сновидения в начале терапии были наполнены зомби, которые пугали не своей кровожадностью, но безжизненным движением, в котором Арина узнавала себя.
Я возвращалась мыслями к птице, парящей над ледяным морем, как Эвринома, которая уже разделила небо и воду, и одинокая, обдуваемая северным ветром забыла о том, что именно её сюда привело.
Всякий раз стоило нам прикоснуться к боли и одиночеству Арины, анимус уносил её от того, чтобы оплакать потерянное. Ведь главное — её материнство, остальное быстро замораживалось. Надо сказать, что у Арины был яркий негативный материнский комплекс, мать довлела над ней до 18 ти лет, пока она не ушла из дома. До 12ти лет Арина спала в одной постеле с матерью и была продолжением её тревог и неисполненных ожиданий от жизни. Мать Арины проживала жизнь, лишенную увлечений и общения. Через год после начала, разобравшись с запросом, она прервала терапию и вернулась после смерти отца, которая случилась в первую волну ковида. Он умер в больнице, и семье не дали увидеть его тело, а сделали съёмку кремации. Эта ледяное отношение к потере было, к сожалению, допустимым в то время. Оно также отразилось в способе Арины пережить боль, заморозив её и отделившись. Однако, проявленный в реальности феномен, привёл в движение замороженные воды бессознательного. Во снах начали появляться всё более яркие выражения ярости: драки, агрессия, вспыхивающие и сразу исчезающие огни. Океан таял, а его огромные волны сносили женщину и выбрасывали её на берег истощенной. Периоды гнева, сменялись апатией, но параллельно к ней возвращалось состояние ранней подростковой очарованности миром. В эти периоды её речь и мимика преображались, она становилась юной и наивной. Волны океана привнесли в жизнь Арины спорт, которым она впервые за всю жизнь начала заниматься систематично. Её тело оживало и преображалось.
Девочка 12ти лет, которую я теперь регулярно видела, еще не обладала эросом, направленным вовне, весь он был сосредоточен на ней самой. Это было то, что Кереньи назвал «бутонообразностью», описывая Кору и стадию девственницы (7 С.256). Было странно видеть, как женщина, подступающая к 40 годам, возвращается в состояние невинного сознания. И всё же это было необходимо. Параллельно в терапии кристаллизовался крайне негативный образ анимуса – он появлялся во снах, как большая тёмная фигура, угрожающая полным уничтожением.
Около полутора лет волнообразных переживаний потребовалось, чтобы Эрос вылетел за пределы и раскрыл цветок. Сон, предвещающий это пробуждение: «я в бане, но все одеты, одна я голая. Чувствую, что мне становится холодно. Успокаиваю себя тем, что сейчас придёт банщик и растопит парную. Вижу мужчину, который начинает проводить странный ритуал: у него в руках горшок, который он начинает вращать, раскрывая его горлышко, как резиновое. Из него летит сажа, он улыбается. Мне холодно, и я решаюсь идти ближе к печке, думаю, что будет слишком жарко, но всё равно иду». После сна пациентка обращает особое внимание на ритуал с горшком, описывает его, как “чудесный, раскрывающий и очищающий”. В этом сне Арина обретает опыт движения и преобразования, преодолевая страх жара — страх эроса, она движется к контакту, растягивающему её форму.
Страх Эроса естественен: «Сжигающий — это ЭРОС, который имеет форму пламени. Пламя дает свет, ибо оно сжигает» (2 С.377). Преодолевает этот страх природа, но когда природа находится в полной власти материнского, не допускающего изменений, то свойственная ей переменчивость застывает. В этом сне анимус проявляет себя позитивным способом: он — растопщик, которого ожидает сновидица, и он же проводит ритуал. Она осознаёт свою наготу и холод, связанный с этим, и поддается естественному желанию идти к теплу. Глиняный горшок в руках растопщика – это тело и реальное и психическое, будучи застывшим, оно рискует разбиться и обрекает женщину на ещё большую неподвижность. Жар банного ритуала отражает просыпающийся интерес и вовлеченность в терапию и самоисследование, он делает глину мягче, а из её горлышка вылетает сажа. Сажа свидетельствует о жаре прошлого, об аффектах, запертых внутри, оставивших следы.
Тот сон стал предвестником того, что сосуд достаточно укрепляется, чтобы вобрать в себя воды реки Стикс. Арина стала творцом, её художественные произведения появлялись на свет в удивительных первобытных формах, и нашли своих зрителей и ценителей. Анимус констеллировался в новом образе, который отразился и во внешней жизни. Замороженность оказалась растоплена, и богиня совершает свой танец, удерживая ветер Борей в ладонях.
В этих двух случаях меня поразило, как с разницей в несколько месяцев пациенткам приснился схожий мотив: Арина увидела сон, в котором она была в пещере со своим анимусом, она вышла из неё и в восторге наблюдала за небом, в котором разворачивались грозовые тучи. Она описывала запах озона в воздухе и молнии вдалеке. Вера также увидела пещеру, но в ней была другая женщина. Вход в пещеру закрыла решётка. Начинался дождь, она знала, что из-за изменений в климате дождь будет очень сильным и чувствовала страх, что пещеру затопит. Я обращаю внимание на то, что в обоих снах именно в небесной сфере отражаются глубинные изменения. Пещера – это место обитания змея Офиона, то, насколько оно признано женщиной, похоже, определяет её готовность принять в себя новый мир. Может ли женщина-творец обнаружить свою телесную реальность, как духовный аспект, или же остаётся запертой в ней – то, что определяет её отношение и позицию между танцем неба и земли.
Женщина 35 лет пришла ко мне с жалобой на раздражение и агрессию в сторону старшего сына, которому на тот момент было 5 лет. К тому моменту она уже 6 лет была в декретном отпуске, заботясь о двух детях. Охваченная жёсткими идеями «правильного» материнства она выбирала для них всё, что ей казалось самым лучшим. Её анимус был очень строг и суров относительно «правильной еды, досуга, сна». Сын, обладающий живым нравом, не поддавался материнским установкам и становился нарушителем «идеальной картинки» или проявителем истинного «положения дел», что вызывало сильнейшее раздражение. Она жаловалась на то, что не может следить за собственным телом, что пытается реализовать личные проекты, но впадает в апатию и бездействие. Весь её эрос был помещён в детей, анимус не давал ей поддержки, а вместо этого постоянно создавал всё более жёсткие критерии оценки себя, как матери. В первом её сне в терапии меня поразил образ ледяного океана и парящей над ним вдали птицы. Сновидения в начале терапии были наполнены зомби, которые пугали не своей кровожадностью, но безжизненным движением, в котором Арина узнавала себя.
Я возвращалась мыслями к птице, парящей над ледяным морем, как Эвринома, которая уже разделила небо и воду, и одинокая, обдуваемая северным ветром забыла о том, что именно её сюда привело.
Всякий раз стоило нам прикоснуться к боли и одиночеству Арины, анимус уносил её от того, чтобы оплакать потерянное. Ведь главное — её материнство, остальное быстро замораживалось. Надо сказать, что у Арины был яркий негативный материнский комплекс, мать довлела над ней до 18 ти лет, пока она не ушла из дома. До 12ти лет Арина спала в одной постеле с матерью и была продолжением её тревог и неисполненных ожиданий от жизни. Мать Арины проживала жизнь, лишенную увлечений и общения. Через год после начала, разобравшись с запросом, она прервала терапию и вернулась после смерти отца, которая случилась в первую волну ковида. Он умер в больнице, и семье не дали увидеть его тело, а сделали съёмку кремации. Эта ледяное отношение к потере было, к сожалению, допустимым в то время. Оно также отразилось в способе Арины пережить боль, заморозив её и отделившись. Однако, проявленный в реальности феномен, привёл в движение замороженные воды бессознательного. Во снах начали появляться всё более яркие выражения ярости: драки, агрессия, вспыхивающие и сразу исчезающие огни. Океан таял, а его огромные волны сносили женщину и выбрасывали её на берег истощенной. Периоды гнева, сменялись апатией, но параллельно к ней возвращалось состояние ранней подростковой очарованности миром. В эти периоды её речь и мимика преображались, она становилась юной и наивной. Волны океана привнесли в жизнь Арины спорт, которым она впервые за всю жизнь начала заниматься систематично. Её тело оживало и преображалось.
Девочка 12ти лет, которую я теперь регулярно видела, еще не обладала эросом, направленным вовне, весь он был сосредоточен на ней самой. Это было то, что Кереньи назвал «бутонообразностью», описывая Кору и стадию девственницы (7 С.256). Было странно видеть, как женщина, подступающая к 40 годам, возвращается в состояние невинного сознания. И всё же это было необходимо. Параллельно в терапии кристаллизовался крайне негативный образ анимуса – он появлялся во снах, как большая тёмная фигура, угрожающая полным уничтожением.
Около полутора лет волнообразных переживаний потребовалось, чтобы Эрос вылетел за пределы и раскрыл цветок. Сон, предвещающий это пробуждение: «я в бане, но все одеты, одна я голая. Чувствую, что мне становится холодно. Успокаиваю себя тем, что сейчас придёт банщик и растопит парную. Вижу мужчину, который начинает проводить странный ритуал: у него в руках горшок, который он начинает вращать, раскрывая его горлышко, как резиновое. Из него летит сажа, он улыбается. Мне холодно, и я решаюсь идти ближе к печке, думаю, что будет слишком жарко, но всё равно иду». После сна пациентка обращает особое внимание на ритуал с горшком, описывает его, как “чудесный, раскрывающий и очищающий”. В этом сне Арина обретает опыт движения и преобразования, преодолевая страх жара — страх эроса, она движется к контакту, растягивающему её форму.
Страх Эроса естественен: «Сжигающий — это ЭРОС, который имеет форму пламени. Пламя дает свет, ибо оно сжигает» (2 С.377). Преодолевает этот страх природа, но когда природа находится в полной власти материнского, не допускающего изменений, то свойственная ей переменчивость застывает. В этом сне анимус проявляет себя позитивным способом: он — растопщик, которого ожидает сновидица, и он же проводит ритуал. Она осознаёт свою наготу и холод, связанный с этим, и поддается естественному желанию идти к теплу. Глиняный горшок в руках растопщика – это тело и реальное и психическое, будучи застывшим, оно рискует разбиться и обрекает женщину на ещё большую неподвижность. Жар банного ритуала отражает просыпающийся интерес и вовлеченность в терапию и самоисследование, он делает глину мягче, а из её горлышка вылетает сажа. Сажа свидетельствует о жаре прошлого, об аффектах, запертых внутри, оставивших следы.
Тот сон стал предвестником того, что сосуд достаточно укрепляется, чтобы вобрать в себя воды реки Стикс. Арина стала творцом, её художественные произведения появлялись на свет в удивительных первобытных формах, и нашли своих зрителей и ценителей. Анимус констеллировался в новом образе, который отразился и во внешней жизни. Замороженность оказалась растоплена, и богиня совершает свой танец, удерживая ветер Борей в ладонях.
В этих двух случаях меня поразило, как с разницей в несколько месяцев пациенткам приснился схожий мотив: Арина увидела сон, в котором она была в пещере со своим анимусом, она вышла из неё и в восторге наблюдала за небом, в котором разворачивались грозовые тучи. Она описывала запах озона в воздухе и молнии вдалеке. Вера также увидела пещеру, но в ней была другая женщина. Вход в пещеру закрыла решётка. Начинался дождь, она знала, что из-за изменений в климате дождь будет очень сильным и чувствовала страх, что пещеру затопит. Я обращаю внимание на то, что в обоих снах именно в небесной сфере отражаются глубинные изменения. Пещера – это место обитания змея Офиона, то, насколько оно признано женщиной, похоже, определяет её готовность принять в себя новый мир. Может ли женщина-творец обнаружить свою телесную реальность, как духовный аспект, или же остаётся запертой в ней – то, что определяет её отношение и позицию между танцем неба и земли.
В конце я бы хотела поделиться своим собственным сном, который приснился мне накануне того, как я поняла, что хочу и готова написать свою первую книгу. Этот сон остался со мной и продолжает воздействовать на меня. Мужчина, образ которого мне уже хорошо знаком, приводит меня в дом на берегу моря. Я захожу в него одна. В полумраке я ищу выключатель на стене и, когда включаю свет, вижу перед собой огромную кобру с двумя головами. Она гипнотизирует и парализует меня – от её вида и неподвижного взгляда я прихожу в ужас.
Из мифов я сразу вспомнила про амфисбену, рожденную из крови убитой Медузы Горгоны, эта змея действительно вызывала у меня гипнотизирующий и парализующий ужас, как мог бы вызвать взгляд Горгоны. Однако в отличие от описаний амфисбены, голова моей змеи раздваивалась наверху. Я погрузилась в изучение удивительного явления сиамских змеиных близнецов, которые в реальности существуют в природе. Удвоенность их головы говорит о наличие двух сил с единым источником или же о двух силах, одна из которых наполовину скрыта.
Рассматривая образ змеи Эмма Юнг отмечает: “В наше время во снах и фантазиях как мужчин, так и женщин змея часто символизирует до-человеческое и недифференцированное либидо, а не психический компонент, который осознается или может быть сознательным”. (9 С.57) Её появление вызывает захватывающее напряжение, которое не удаётся сбросить, определив к одному из полюсов, соответственно требуется надеяться на вмешательство творческой функции, которая сможет это переработать.
Из мифов я сразу вспомнила про амфисбену, рожденную из крови убитой Медузы Горгоны, эта змея действительно вызывала у меня гипнотизирующий и парализующий ужас, как мог бы вызвать взгляд Горгоны. Однако в отличие от описаний амфисбены, голова моей змеи раздваивалась наверху. Я погрузилась в изучение удивительного явления сиамских змеиных близнецов, которые в реальности существуют в природе. Удвоенность их головы говорит о наличие двух сил с единым источником или же о двух силах, одна из которых наполовину скрыта.
Рассматривая образ змеи Эмма Юнг отмечает: “В наше время во снах и фантазиях как мужчин, так и женщин змея часто символизирует до-человеческое и недифференцированное либидо, а не психический компонент, который осознается или может быть сознательным”. (9 С.57) Её появление вызывает захватывающее напряжение, которое не удаётся сбросить, определив к одному из полюсов, соответственно требуется надеяться на вмешательство творческой функции, которая сможет это переработать.
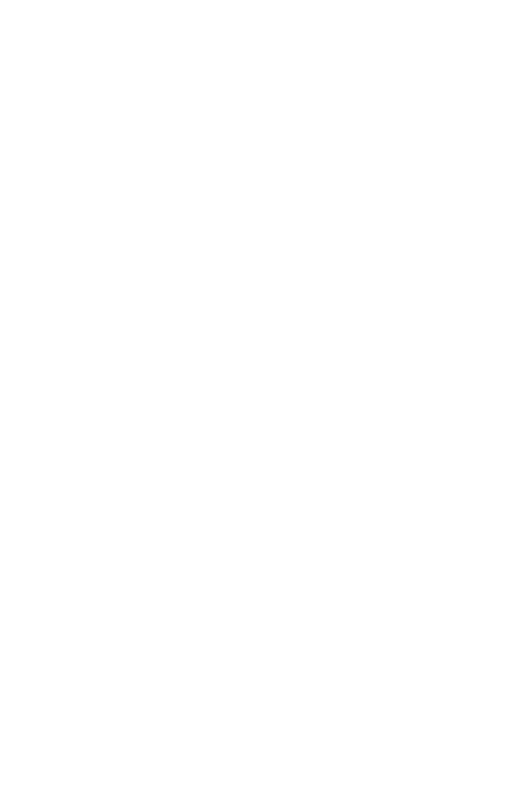
Serpent Deitis
Скульптура Индия штат Карнатака 9 век
После того сна я не находила себе места, мне казалось, что я стою оцепеневшая, и если я не начну шевелиться, то случится нечто страшное. Следующий мой сон, который принёс желанное движение, был также связан с берегом моря, с границей между сознанием и бессознательным, чарующей меня. В этом сне я шла по песку и видела множество, выкинутых на берег клешней ракообразных. Их поедание могло помочь мне переварить воздействие двухголовой змеи. Почти сразу я поняла, что клешни отражают руку, и мне требуется начать использовать способность оформлять переживание в текст, чтобы освободиться от невыносимости зловещего образа. Я мечтала, думаю, как и многие, что напишу однажды книгу, но мне не удавалось найти к этому желанию верного отношения, которое помогло бы довести его до конечной реализации.
Сны, в которых анимус привёл меня в дом к змее, обнаружив ужас, сокрытый где-то на границе миров, и одновременно доверие тому, что у этого процесса есть созидательное начало — направили меня к созиданию, а не к разрушению. Хотя и то и другое могло быть связанным воедино, как две головы одной змеи, одна из которых несёт в себе яд, а другая — лекарство. Встреча с коброй напомнила мне “Музу” А.Ахматовой, пробудив одновременно благоговение и ужас.
В завершение хочется подчеркнуть, что творческий путь женщины — это не абстрактное восхождение духа, но глубинное погружение в материю. Его невозможно пройти, не затронув тело, быт, отношения, голос, сексуальность, землю. Женская трансформация начинается не в идее, а в ощущении. Симптом, как у Веры, — это не просто сбой, а послание души; можно подойти к нему, как к загадке, а можно увидеть, что само его присутствие уже изменило пути сознания. В случае Арины телесный опыт, застывший в плену материнского комплекса, был заморожен, а вместе с ним застыл во льдах и творческий потенциал. По мере возвращения Эроса в центр психики, воздушные потоки Анимуса уже не выражают хаос, но обретают форму изменений в небесной сфере идей. Женщины-творцы неизбежно сталкиваются с одержимостью, но порождают новые формы, усложняя смысловую основу, как собственной жизни, так и жизни сообщества.
Творческий вызов вряд ли может предоставить возможность безболезненного отказа от него, но и движение к его реализации неизбежно включает страдание и преображение. Анализируя книгу Товита Барбара Ханна приходит к выводу, что Анимус должен быть связан с творческим началом, без этого он остаётся отщепленным и подвергается воздействию коллективной психе (4 С.191). Подобно змею Офиону он должен служить будущему воплощению, обвивая космическое яйцо; быть связанным реальными обстоятельствами, внутри которых женщина совершает свой танец бесконечных изменений.
Сны, в которых анимус привёл меня в дом к змее, обнаружив ужас, сокрытый где-то на границе миров, и одновременно доверие тому, что у этого процесса есть созидательное начало — направили меня к созиданию, а не к разрушению. Хотя и то и другое могло быть связанным воедино, как две головы одной змеи, одна из которых несёт в себе яд, а другая — лекарство. Встреча с коброй напомнила мне “Музу” А.Ахматовой, пробудив одновременно благоговение и ужас.
В завершение хочется подчеркнуть, что творческий путь женщины — это не абстрактное восхождение духа, но глубинное погружение в материю. Его невозможно пройти, не затронув тело, быт, отношения, голос, сексуальность, землю. Женская трансформация начинается не в идее, а в ощущении. Симптом, как у Веры, — это не просто сбой, а послание души; можно подойти к нему, как к загадке, а можно увидеть, что само его присутствие уже изменило пути сознания. В случае Арины телесный опыт, застывший в плену материнского комплекса, был заморожен, а вместе с ним застыл во льдах и творческий потенциал. По мере возвращения Эроса в центр психики, воздушные потоки Анимуса уже не выражают хаос, но обретают форму изменений в небесной сфере идей. Женщины-творцы неизбежно сталкиваются с одержимостью, но порождают новые формы, усложняя смысловую основу, как собственной жизни, так и жизни сообщества.
Творческий вызов вряд ли может предоставить возможность безболезненного отказа от него, но и движение к его реализации неизбежно включает страдание и преображение. Анализируя книгу Товита Барбара Ханна приходит к выводу, что Анимус должен быть связан с творческим началом, без этого он остаётся отщепленным и подвергается воздействию коллективной психе (4 С.191). Подобно змею Офиону он должен служить будущему воплощению, обвивая космическое яйцо; быть связанным реальными обстоятельствами, внутри которых женщина совершает свой танец бесконечных изменений.
Ссылки:
- Юнг К.Г. Нойманн Э. “Психоанализ и искусство”. Рефл-бук, Ваклер, 1996 г.
- Юнг К.Г., Яффе А., Якоби И. “К.Г. Юнг Дух и Жизнь”, Практика, 1996 г.
- Юнг К.Г. “Эон”. АСТ Москва, 2009 г.
- Ханна Б. “Анимус и Эрос”. Касталия, 2018 г.
- Грейвс Р. “Мифы древней Греции”, Фактория, 2005 г.
- Ахматова А. Пермское книжное издательство, 1980 г.
- М.Л. фон Франц “Золотой осёл Апулея”. Касталия, 2014 г. Приложение Нойманн Э. “Амур и Психея”
- Хёллер С. “Юнг и гностицизм”. Касталия, 2018 г.
- Юнг Э., Уилрайт, Нойманн и др. “Анима и анимус”, МААП, 2008 г.
- Федюнина М. “Путешествие в подземный мир”. Ridero, 2024 г.
- Юнг К.Г. "Семь наставлений мёртвым"